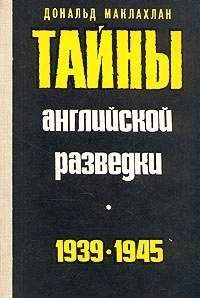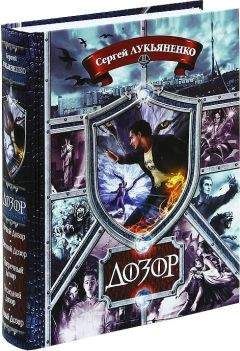— Подумал — предал? — усмехнулся военный. — Хотите сказать, что тире между этими двумя глаголами можно заменить словом «значит». Подумал о предательстве — значит предал. Я не согласен.
— Как вам будет угодно, Юра… Но не кажется ли вам, что даже самые невинные мысли о предательстве способны привести к недостойному поступку? Тогда как внутренняя свобода исключает такие поступки. Большевикам можно служить с достоинством и честью. Во-первых, потому что другого правительства в России теперь уже никогда не будет, а во-вторых, потому что порядочного человека никакое правительство не заставит стать подлецом! — Она улыбнулась: — А вот и дядя, будем надеяться, что он достал билеты.
К скамейке спешил полный старик. Он размахивал толстой суковатой палкой с инкрустацией и накладной монограммой.
— Сонюшка, Юра! — кричал старик. — Оказывается, поезда не просто ходят, а даже по расписанию, и билеты я вам, представьте себе, не в скотский вагон купил, а в желтый, желтый, дети мои! Выспитесь, вымоетесь, чаю попьете и вообще — не прав сегодня великий Блок: в зеленых горькие рыдания, а в желтых — радостное пенис! — Он протянул билеты. — Состав уже подан, прошу за мной!
Шаврову тоже было пора уходить, он встал и увидел, как шагает по пустому перрону патруль — двое в шинелях. Старший — с маузером-раскладкой через плечо — настороженно посмотрел ка офицера:
— Документы…
— Извольте… — офицер протянул сложенную вчетверо бумажку.
Старший неторопливо развернул ее, тщательно разгладил и долго вчитывался.
— Из лагеря? — наконец спросил он. — За что сидели?
— Я был отправлен в лагерь «до окончания гражданской войны». Так было сформулировано в постановлении, которое — мне дали прочитать.
— За что? — настойчиво повторил старший.
— Превентивно, — усмехнулся офицер. — Мне не доверяли. Как социально-чуждому элементу.
— Улыбаться нечему, — старший вернул бумагу. — У вас? — повернулся он к старику.
— Я советский служащий, товарищ… — старик протянул удостоверение. — Это моя племянница. Мы едем… В связи со смертью ее отца, некоторым образом, моего брата… По делам наследства, если вам угодно знать…
— А он? — резко мотнул головой в сторону офицера старший патруля.
— Это… Это, видите ли, жених моей племянницы… Да! Ее отец, а мой брат благословил перед… Перед смертью этот брак, а я, Божьей милостью, все доведу до конца!
— Можете следовать, — откозырял старший и добавил, кривя улыбку: — Однако жаль…
— Что? Что, собственно? — нервно вскрикнул старик.
— Такая хорошая девушка, — сказал старший. — И за такого… Не пожалеть бы вам. — Патрульные направились к Шаврову. Всматриваясь в узкое пространство, образовавшееся между их основательными, широкими фигурами, Шавров увидел всю «белогвардейскую компанию», как мысленно окрестил он старика и его спутников, бегом удаляющихся в сторону перрона.
— Напугали вы их. — Шавров протянул старшему свои документы.
— За что орден?
— Было дело… — махнул рукой Шавров. Рассказывать почему-то не захотелось. — Как в Москве? Что хорошего?
Старший свернул справку о демобилизации, сказал с горечью:
— Что тебе сказать? Была революция, была гражданская, а теперь — нэп. Так что, товарищ Шавров, начинай новую жизнь. Мирную. Так-то вот…
— Нэп… — повторил Шавров. — Сокращение какое-то?
— Сокращение, — кивнул старший. — Всего хорошего сокращение. И увеличение. Всего плохого.
— Так нельзя, — вмешался второй патрульный. — Нэп есть временное отступление при сохранении командных…
— Заткнись, — огрызнулся старший и, бросив в угол рта папироску, продолжал: — Голод видел?
— Испытывал… — пожал плечами Шавров.
— Тогда все удавишь правильно, не как этот… — повел он глазами в сторону второго патрульного. — Нэп — это когда одни голодают, а другие — обожрались. Большевик?
— С октября девятнадцатого.
— А я — с июня восемнадцатого! И я не понимаю, за что мы клали свои жизни, если теперь снова десять тысяч наступили на горло миллионам! Бывай, краском. Смотри глупостей не наделай, нынче многие наши не выдерживают. — Он засмеялся: — Приходят на Тверскую к Елисеевскому, смотрят на витрины, а там… — он развел руки в сторону, — как при Николае Втором, Кровавом… Ну и — маузер из кобуры, крик — «за что боролись» — и пулю в висок… Так-то вот… — Патрульные откозыряли и ушли.
Звон станционного колокола отвлек Шаврова от размышлений. Нужно было спешить.
К его изумлению, никакой толчеи у Петроградского состава не было. Как в добрые времена, у подножек топтались чинные проводники в новенькой униформе, носильщики в ослепительно-белых фартуках несли чьи-то роскошные чемоданы. Проводник проверил билет, скользнул по шинели и ордену колючим взглядом и, возвращая билет, высокомерно процедил:
— Ваше-с четвертое-с… В паре с пожилым спокойным господином поедете… Так что — попра-ашу…
— Чего попросишь?
— Да уж сделайте милость, не беспокойте-с пассажира, — нахально осклабился проводник. — И вообще — вам бы, «то-оварищ», в третий, ну, в крайности — во второй класс пройти… Там — ваши. Там вам сподручнее будет. Да и нам — спокойнее…
— А если я тебя сейчас пристрелю?
— Да ну? — удивился проводник и показал свисток. — Милиция теперь вашего брата с большим плезиром в каталажку сует. Слишком уж вас много. Так что не пужайте, ваше… как вас там называть теперь… «Благородием» вроде бы и не с руки…
Шавров прошел по длинному коридору, на полу которого распласталась тщательно вычищенная дорожка, и потянул золоченую рукоять купе. Вместо ожидаемого «спокойного господина», только что обещанного контрой-проводником, он увидел недавних знакомцев: офицера и девушку.
— Простите… — Шавров приложил руку к козырьку буденовки, — я, кажется, ошибся. — Он попятился, но девушка остановила его:
— Это мы должны просить у вас прощения. Это, вероятно, ваше купе? Дядя Асик решил, что здесь меньше дует, и поселил нас сюда. А вы будете с дядей Асиком в нашем бывшем купе. Если, конечно, не возражаете, — она очаровательно улыбнулась.
— Как вам будет угодно, — вспомнил Шавров давно забытые слова и сразу же поймал взгляд офицера.
— Позвольте рекомендоваться. — Офицер встал и поклонился: — Храмов, Юрий Евгеньевич, Софья Алексеевна, моя невеста.
— Просто Соня, — снова улыбнулась девушка.
И скованность Шаврова прошла.
— Какое совпадение, — произнес он удивленно. — Я ведь тоже еду к невесте. А у вас, вероятно, свадебное путешествие?
— Пока не получается. Мой отец умер неделю назад… — помрачнела Соня. — Дядя едет с нами, чтобы устроить мои дела.
Шавров пожал протянутую руку:
— А я воевал в Крыму, теперь демобилизован вчистую…
— Я тоже… воевал, — помедлив, сказал Храмов. — С немцами. Потом меня отправили в концентрационный лагерь… Вероятно, в награду.
— Я слышал, вы объясняли патрулю, — сказал Шавров. — Все правильно, и обижаться, по-моему, не на что.
— Вы интеллигентный человек, — глухо сказал Храмов. — Кому и чему вы служите?
— Новой России. — Шавров почувствовал, что краснеет. — Старая-то — согласитесь, прогнила насквозь. Распутины и пуришкевичи, взятки и грязь. И я давил Врангеля, чтобы этого никогда больше не было, понимаете, никогда! — Шавров сжал губы. — Есть такое понятие: диктатура пролетариата. Только она одна в состоянии избавить человечество от ига капитала. И чтобы избавление пришло — я этой диктатуре служил и служить буду до смертного часа!
— Ну а волноваться-то зачем? — добродушно спросил Храмов. — Физику учили? Третий закон Ньютона помните?
— Допустим. И что?
Усмешка не сходила с губ Храмова:
— А то, к примеру, что я лично далек теперь от любого противодействия, искренне говорю. Но таких, как я, — мало. А… других-всяких — их миллионы! Не боитесь? — Он перестал улыбаться, лицо его сделалось жестким, глаза непримиримо сверлили Шаврова.
— Юра… — девушка робко дотронулась до руки офицера. — Давайте попросим чаю?
В дверь постучали, вошел проводник в белой официантской куртке, через локоть его левой руки было переброшено полотенце, в правой, на отлете — блестел поднос, на котором вызванивали стаканы в мельхиоровых подстаканниках, а на тарелках громоздились бутерброды с черной икрой и балыком.
— Все самое свежее-с, — наклонил голову проводник. — Что будет угодно господам, — он улыбнулся Храмову и Соне, — а также и вам, «товарищ», — скользнул он взглядом по Шаврову.
— Два стакана чаю и два бутерброда с икрой, — распорядился Храмов.
— Мне только чаю, — буркнул Шавров. Настроение у него снова испортилось. Он неприязненно покосился на бутерброды с икрой. Они были аппетитны, непристойно аппетитны, всем своим видом они противоречили революции. Если теперь чернели на серебряном подносе эти аккуратненькие бутербродики — зачем тогда рубили белых в Крымской степи? И кровь зачем? И смерть?
![Гелий Рябов - Приведен в исполнение... [Повести]](https://cdn.my-library.info/books/142777/142777.jpg)